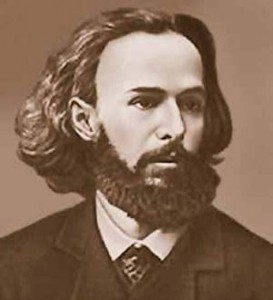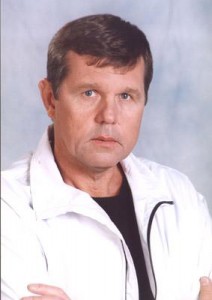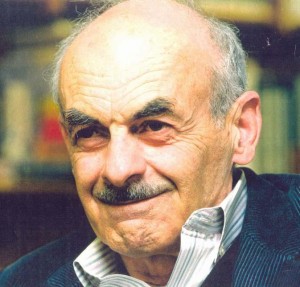Archive for March 7th, 2010
(ТОВАРИЩАМ ИЗ ОЗЕТА)
Бывало,
начни о вопросе еврейском
тебе
собеседник
ответит резко:
— Еврей?
На Ильинке!
Все в одной ли́нийке!
Еврей — караты,
еврей — валюта…
Люто богаты
и жадны люто.
А тут
дают Крым!
А Крым известен:
не карта, а козырь;
на лучшем месте —
дворцы и розы. —
Так врут
рабочим врагов голоса,
но ты, рабочий,
но ты —
ты должен честно взглянуть в глаза
еврейской нищеты.
И до сегодня
слышатся отзвуки
стонов и рёва.
Это, «жидов»
за бунты карая,
тешилась
пуля и плеть царёва.
Как будто бы
у крови стока
стоишь
у столбцов статистических выкладок.
И липнет
пух
к лежащим глазам,
которые выколоты.
Уставив зрачок
и желт и огромен,
глядело солнце,
едва не заплакав.
Как там —
проходила в погроме:
и немец,
и русский,
и шайки поляков.
громили денно и нощно.
То шел Петлюра
в батарейных грома̀х,
то плетью свистела махновщина.
Еще и подвал
от слезы не высох, —
они выползали,
оставив нору́.
И снова
смрад местечковых ям
да крови несмытой красная медь.
И голод
в ухо орал:
— Земля!
Земля и труд
или смерть! —
Ни моря нет,
ни куста,
ни селеньица,
худшее из худших мест на Руси —
место,
куда пришли поселенцы,
палаткой взвив
паруса парусин.
Эту пустыню
в усердии рьяном
какая жрала саранча?!
Солончаки сменялись бурьяном,
и снова
шел солончак.
Кто смерит
каторгу их труда?!
Геройство — каждый дым,
и каждый кирпич,
и любая труба,
и всякая капля воды.
А нынче
течет ручьева́я лазурь;
и пота рабочего
крупный град
сегодня
уже
перелился в лозу́,
и сочной гроздью
повис виноград.
Люди работы
выглядят ровно:
взгляни
на еврея,
землей полированного.
Здесь
делом растут
коммуны слова:
узнай —
хоть раз из семи,
который
из этих двух —
из славян,
который из них —
семит.
Не нам
со зверьими сплетнями знаться.
И сердце
и тощий бумажник свой
откроем
во имя
жизни без наций —
грядущей жизни
без нищих
и войн! [1926]
******
Евреи! Достаточно для человечества вы отдали сил в суматохе дней.
Страна Палестина,
твое отечествo,
туда езжай,
если ты еврей.
Куда ни глянь,
кругом евреи,
спешите все
туда поскорее.
Еврейские нивы, сады и поля,
Такою будет твоя земля!
Что сам посеешь, то сам и пожнешь –
Антисемитов пусть хватит дрожь.
Довольно домов для других вы строили,
Построй свой дом в стране Исроэля!
Евреи, оставьте Россию немытую,
Идите туда, где не будете битыми,
Туда, где не взыщут на вас вины,
Туда, где руки ваши нужны.
Расцветет пустыня еврейским трудом
Для всех поколений – сейчас и потом.
Не ждите погрома ужасной картины –
Езжайте, евреи, скорей в Палестину!
Что делать – будешь решать ты сам.
Ты на горе восстановишь Храм.
Сюда, как встарь, соберутся народы
И будут славить мир и свободу,
чтоб не было к былому возврата,
Бери свое – от Нила до Ефрата.
Только не жди – не поможет бог, если себе ты помочь не смог.
Во имя будущих поколений –
Езжайте скорей в Палестину, евреи!
Опубликовано в еврейской газете “Восход” 30.02.1913 г. Дата публикации и авторство Маяковского сомнительны. Думаю, что это мистификация. В интернете чаще всего как автор фигурирует Мариян Беленький, бесподобный мастер таких пассажей.
*****
Жиды! Жиды! Как дико это слово!
Какой народ – что шаг, то чудеса.
Послушать их врагов – надменно и сурово
С высот грозят жидам святые небеса.
Быть может, и грозят. Но разве только
ныне,
Где вера в небеса, там и небесный гром,
А прежде без грозы народ свой вел
в пустыне
Сам Б-г то облаком, то огненным
столпом.
Теперь гонимей нет, несчастней нет
народа,
Нет ни к кому, как к ним, жидам, вражды,
Но там, где понят Б-г и понята природа,
Везде они – жиды, жиды, жиды, жиды! ( 1860 )
*****
Я рос тебе чужим, отверженный народ,
И не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнёт
Мне чужд, как и твои ученья.
И если б ты, как встарь, был счастлив и силён,
И если б не был ты унижен целым светом,-
Иным стремлением согрет и увлечён,
Я б не пришёл к тебе с приветом.
Но в наши дни, когда под бременем скорбей
Ты гнёшь чело своё и тщетно ждёшь спасенья,
В те дни, когда одно название ”еврей”
В устах толпы звучит, как символ отверженья,
Когда твои враги, как стая жадных псов,
На части рвут тебя, ругаясь над тобою,
Дай скромно стать и мне в ряды твоих бойцов,
Народ, обиженный судьбою!
Комментарий: Очень одарённый поэт, который сейчас незаслуженно забыт. Отец – еврей. Мать – русская дворянка, красавица Мамонтова. Национальная смесь порадила гения. Надсон умер в возрасте 24-х лет от туберкулёза, как тогда говорили, от чахотки. Ему удалось создать несколько очень метких поэтических формул, врезавшихся в память. Стихи – “Как мало прожито, как много пережито”, “Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает”, “Только утро любви хорошо” – стали крылатыми и вошли в обиход речи. К сильным сторонам Надсона следует также причислить полное отсутствие искусственной приподнятости и риторичности. Поэзия Надсона ясна и доступна каждому читателю – и может быть в этом даже главная тайна ее успеха…
Он прожил всего 24 года, но его творчеством вдохновлялись Брюсов, Маяковский и Северянин, а его стихи перекладывали на музыку Рахманинов и Рубинштейн. Умер же поэт Семен Надсон формально от чахотки. Но все были уверены, что он, как и Пушкин, погиб на дуэли. Дуэль была на страницах журналов – за фельетоны в защиту евреев писатели-антисемиты устроили Надсону «журналистский погром».
«Начнём с начала, если это для кого-нибудь интересно. История моего рода, до моего появления на свет – область очень мало известная для меня. Подозреваю, что мой прадед или прапрадед был еврей. Деда и отца помню очень мало. Слышал только, что отец мой, надворный советник Яков Семенович Надсон, очень любил пение и музыку, это и я от него унаследовал. Иногда мне кажется, что, сложись иначе обстоятельства моего детства, я был бы музыкантом. Но в целом история моего детства – грустная и темная». Так начиналась автобиография одного из самых известных поэтов России второй половины XIX века Семёна Яковлевича Надсона. Поэта русского, но неизменно включенного во все еврейские энциклопедии.
Он и сам считал себя русским, рос в нееврейском окружении. Более того, находился под опекой юдофобской родни, открыто разжигавшей антисемитскую истерию того времени. Из-за всего этого начало автобиографии выглядит логичным – никакого видимого интереса к своим корням. Тем не менее через год после этой автобиографии Надсон напишет свой поэтический шедевр «Я рос тебе чужим, отверженный народ», навсегда связавший его с еврейством. Позже историк русской и русскоязычной еврейской литературы Василий Львов-Рогачевский называл Надсона «ассимилированным бардом», который «был заражен болью еврейского народа». После стихотворения о евреях Надсон стал писать еженедельные фельетоны с презрением к тем, кто эту боль причиняет. И это окончательно заострит на нем взоры российских антисемитов. В ответ на фельетоны Надсона последовал, по словам того же Львова-Рогачевского, «закамуфлированный журналистский погром, учиненный авторами-юдофобами». Результатом этого погрома стала смерть поэта. Несмотря на то, что Надсон долго болел, ни у кого из современников не вызывал сомнения тот факт, что «добили» Надсона именно скандальные очерки в его адрес. Он умер в 24 года, за восемь дней до 50-й годовщины гибели Александра Сергеевича Пушкина, после чего «дуэльная» метафора канонизировала жизнь и смерть Семена Надсона в литературе.
Я вышел родом из еврейского квартала.
Я был зачат за три рубля на чердаке.
Тогда на всех резины не хватало
И я родился в злобе и тоске.
Когда подрос, играл в лапту и прятки,
Кидал ножи в обшарпанную дверь.
А у отца давно сверкали пятки
И я не знаю жив ли он теперь.
Моя семья блюла свободу нравов
И я привык к тому в конце концов:
Моя маман беспечно и по праву
Меняла часто мне моих отцов.
Из них последний был мне всех роднее,
Хотя меня он вовсе не любил.
И отличался тем, что не краснея
На крышу баб по лестнице водил.
Со мной росли еврейские детишки,
Все, как и я, одетые в тряпье.
Мои по папам сестры и братишки –
В душе потенциальное ворье.
Пришла война, отцы их дали драпа,
Не дожидаясь сумрачных годин.
И мой любимый, незабвенный папа
Окрестных баб обслуживал один.
Он изводил на них рубли и трешки,
Что приносила в дом моя маман.
И мы со страху прятались в ладошки,
Когда он утром лазил ей в карман.
Мы через день питались черствым хлебом,
А папа блуд чесал на чердаке!
Он отдыхал душой под синим небом,
Зажав трояк в мозолистой руке.
Прошли года, я вырос, даже очень.
И стал тайком захаживать в кабак.
И сладострастный мой беспутный отчим
Ловил частенько глазом мой кулак.
Я позабыл свое больное детство
И стал тайком глядеть на женский пол.
Досталось мне чудесное наследство –
В пятнадцать лет я бабу в дом привел.
А денег мне, конечно, не хватало,
Я вам скажу об этом не тая.
И стали мы с дружками из квартала
Набеги делать в дальные края.
Но воровать мы толком не умели
И день за днем сидели на мели…
И как-то раз менты на хвост насели
И всю контору скопом замели.
Там били больно кованою пряжкой,
Но я молчал как рыба – верь-не верь!
И наконец со звездами на ляжках
Я был ментами вышвырнут за дверь.
Тогда я просто чудом отвертелся,
А остальным повесили срока.
Я с ними столько страху натерпелся
Что за неделю выучил УК.
Теперь я знаю что и сколько весит.
И я не лезу больше на рожон.
Я поменяю тысячу профессий,
Как папа мой менял когда-то жен.
Родитель мой блатной и незабвенный
Меня ты сделал, сделал просто так…
Во мне гудят твои дурные гены
И я с тоской взираю на чердак! ( 1983)
*****
БАБИЙ ЯР
Сегодня по Львовской идут и идут.
Мглисто.
Долго идут. Густо, один к одному.
По мостовой,
По красным кленовым листьям,
По сердцу идут моему.
Ручьи вливаются в реку.
Фашисты и полицаи
Стоят у каждого дома, у каждого палисада.
Назад повернуть – не думай,
В сторону не свернуть,
Фашистские автоматчики весь охраняют путь.
А день осенний солнцем насквозь просвечен,
Толпы текут – тёмные на свету.
Тихо дрожат тополей последние свечи,
И в воздухе:
– Где мы? Куда нас ведут?
– Куда нас ведут? Куда нас ведут сегодня?
– Куда? – вопрошают глаза в последней мольбе.
И процессия длинная и безысходная
Идёт на похороны к себе.
За улицей Мельника – кочки, заборы и пустошь.
И рыжая стенка еврейского кладбища. Стой…
Здесь плиты наставлены смертью хозяйственно густо,
И выход к Бабьему Яру,
Как смерть, простой.
Уже всё понятно. И яма открыта, как омут.
И даль озаряется светом последних минут.
У смерти есть тоже предбанник.
Фашисты по-деловому
Одежду с пришедших снимают и в кучи кладут.
И явь прерывается вдруг
Ещё большею явью:
Тысячи пристальных,
Жизнь обнимающих глаз,
Воздух вечерний,
И небо,
И землю буравя,
Видят всё то, что дано нам увидеть
Раз…
И выстрелы, выстрелы, звёзды внезапного света,
И брат обнимает последним объятьем сестру…
И юркий эсэсовец лейкой снимает всё это,
И залпы.
И тяжкие хрипы лежащих в Яру.
А люди подходят и падают в яму, как камни…
Дети на женщин и старики на ребят.
И, как пламя, рвущимися к небу руками
За воздух хватаются
И, обессилев, проклятья хрипят.
Девочка, снизу: – Не сыпьте землю в глаза мне…–
Мальчик: – Чулочки тоже снимать? –
И замер,
В последний раз обнимая мать.
А там – мужчин закопали живыми в яму.
Но вдруг из земли показалась рука
И в седых завитках затылок…
Фашист ударил лопатой упрямо.
Земля стала мокрой,
Сравнялась, застыла…
*****
Я пришёл к тебе, Бабий Яр.
Если возраст у горя есть,
Значит, я немыслимо стар,
На столетья считать – не счесть.
Здесь и нынче кости лежат,
Черепа желтеют в пыли,
И земли белеет лишай
Там, где братья мои легли.
Здесь не хочет расти трава.
А песок, как покойник, бел.
Ветер свистнет едва-едва:
Это брат мой там захрипел.
Так легко в этот Яр упасть,
Стоит мне на песок ступить, –
И земля приоткроет пасть,
Старый дед мой попросить пить.
Мой племянник захочет встать,
Он разбудит сестру и мать.
Им захочется руку выпростать,
Хоть минуту у жизни выпросить.
И пружинит земля подо мной:
То ли горбится, то ли корчится.
За молитвенной тишиной
Слышу детское:
– Хлебца хочется.
Где ты, маленький, покажись,
Я оглох от боли тупой.
Я по капле отдам тебе жизнь, –
Я ведь тоже мог быть с тобой.
Обнялись бы в последнем сне
И упали вместе на дно.
Ведь до гроба мучиться мне,
Что не умерли смертью одной.
Я закрыл на минуту глаза
И прислушался, и тогда
Мне послышались голоса:
– Ты куда захотел? Туда?!
Гневно дёрнулась борода,
Раздалось из ямы пустой:
– Нет, не надо сюда.
– Ты стоишь? Не идёшь?
Постой!
У тебя ли не жизнь впереди?
Ты и наше должен дожить.
Ты отходчив – не отходи.
Ты забывчив – не смей забыть!
И ребёнок сказал: – Не забудь. –
И сказала мать: – Не прости. –
И закрылась земная грудь.
Я стоял не в Яру – на пути.
Он к возмездью ведёт – тот путь,
По которому мне идти.
Не забудь…
Не прости… (1944 – 1945)
*****
Под крики толпы угрожающей,
Хрипящей и стонущей вслед,
Последний еврей уезжающий
Погасит на станции свет.
Потоки проклятий и ругани
Худою рукою стряхнёт.
И медленно профиль испуганный
За тёмным окном проплывёт.
Как будто из недр человечества
Глядит на минувшее он…
И катится мимо отечества
Последний зелёный вагон.
Весь мир, наши судьбы тасующий,
Гудит средь лесов и морей.
Еврей, о России тоскующий
На совести горькой моей.
*****
Над площадью базарною
Вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
Весь город с толку сбит.
Еврей скрипит на скрипочке
О собственной судьбе,
И я тянусь на цыпочки
И плачу о себе… Какое милосердие
Являет каждый звук,
А каково усердие
Лица, души и рук,
Как плавно, по-хорошему
Из тьмы исходит свет,
Да вот беда – от прошлого
Никак спасенья нет.
*****
Тель-авивские харчевни…
Тель-авивские харчевни,
забегаловок уют,
где и днем, и в час вечерний
хумус с перцем подают.
Где горячие лепешки
обжигают языки,
где от ложки до бомбежки
расстояния близки.
Там живет мой друг приезжий,
распрощавшийся с Москвой,
и насмешливый, и нежный,
и снедаемый тоской.
Кипа, с темечка слетая,
не приручена пока…
Перед ним — Земля Святая,
а другая далека.
И от той, от отдаленной,
сквозь пустыни льется свет,
и ее, неутоленной,
нет страшней и слаще нет.
…Вы опять спасетесь сами.
Бог не выдаст, черт не съест.
Ну, а боль навеки с вами, —
боль от перемены мест. (1993)
Комментарий: Свою автобиографическую книгу “Упразднённый театр. Семейная хроника” Булат Окуджава начинает такими словами: “В середине прошлого века Павел Перемушев, отслужив солдатиком свои двадцать пять лет, появился в Грузии, в Кутаиси, получил участок земли за службу, построил дом и принялся портняжить. Кто он был – то ли исконный русак, то ли мордвин, то ли еврей из кантонистов – сведений не сохранилось, дагерротипов тоже”. Выходит, Булат Шалвович не исключал того, что его прадед был по происхождению евреем. Павел Перемушев женился на грузинке Саломее Медзмариашвили. Их старшая дочь Елизавета вышла замуж за Степана Окуджаву и родила восьмерых детей. Один из них Шалва, отец поэта, женился на армянке Ашхен. Следовательно, в жилах Булата Окуджавы, кроме грузинской и армянской, вероятно, текла и еврейская кровь. И заявить об этом открыто в России – надо было обладать мужеством. Господа антисемиты должны кусать себе локти. Проявления антисемитизма многолики. Однажды, ещё в начале перестройки, один провинциальный российский дирижёр похвастался проверяющей комиссии министерства культуры, что у него в симфоническом оркестре уже нет ни одного еврея. На что получил ответ: “Это было слышно, когда ваш оркестр играл”. Будучи очень музыкальным, Булат Окуджава высоко ценил еврейскую задушевность и музыкальность.
P.S. Послушайте. Последний концерт Окуджавы
Художник Елена Флёрова
На свой народ Христос глядит с распятья,
Ни в чем не обвиняя никого,
И ждет, что в запоздалые объятья
Евреи примут сына своего.
Третий
Подрастали у царя
Три сынка-богатыря:
Пантелей и Никодим,
третий – вовсе был Рувим.
Ведь из трех богатырей
кто-то должен быть еврей.
Двое пьют, едят, храпят,
третий – всюду виноват.
Покуда
Никто себя, наверно не осудит
За неудачи родины своей.
За все грехи, покуда жить в ней будет
Всего один-единственный еврей.
После исхода
У жителей печальных
Спросили как-то раз:
– Ну, как у вас, нормально
с евреями сейчас?
-И сразу же печальный
услышали ответ:
-С евреями нормально,
а без евреев нет!
Конспиратор
Считался верноподданным и чистым,
Ни в чем властями не подозреваемый,
Но был в душе отважным сионистом –
И раскололся лишь в Израиле.
Тут и там
Тут плохо говорили об Ароне –
Мол он плохой трудяга и солдат,
А там о нем сегодня говорят:
“Арон готов к труду и обороне”
В чём суть
Шел Василь с тоской своею
ранним утром в тишине,
“Бей жидов – спасай Расею!” –
Прочитал он на стене.
У стены стоял он тихо,
вдруг усы расправил лихо
И сказал, вникая в суть:
– Hi, нi, нi! Нехай живуть!
Господам Макашевым
Враждебность и ненависть в людях посеяв
Не ждите в народе желанных ростков;
Чем меньше в стране остается евреев
Тем больше становится новых врагов.
Под общей крышей
Под общей крышей небосвода,
Враждой своею знамениты,
Живут на свете два народа:
Евреи и антисемиты.
Фаршированная рыба
Призвав на помощь шутку и улыбку,
И женскую фантазию свою,
еврейка может маленькою рыбкой
Почти досыта накормить семью.
Очень жаль
Бывает очень жаль, ей-богу,
И очень грустно, что пока
Не водят женщин в синагогу
Для обрезанья языка.
Старческие изменения
Внешне мы меняемся, старея –
Лица все печальней и добрее,
На моих глазах антисемит
cтал похож на старого еврея.
Шалом
Mой внук живёт за рубежом.
Он в трубку мне кричит: – Шалом!
– Шалом! – кричу я удивлённый.
А сам сижу ошаломлённый.
Чертополох
Посеяли картошку и горох,
Взошли в полях зеленые растения.
И тут же закричал чертополох:
– Долой некоренное население!
Идиот
Под красным знаменем старик
По улице идёт.
Исаак не просто большевик,
он просто идиот!
Обещание черносотенца
Придет счастливая пора:
Евреи будут в Израиле –
И ровно в шесть часов утра
У нас наступит изобилье!
На гастроли
К старой пьесе чувствуя вниманье
И любовь, которой нет забвенья,
Из Москвы уехал “Дядя Ваня”,
В Тель-Авив приехал “Дядя Беня”.
Мы знаем
Какие в СССР хозяева, мы знали, –
Мы рядом с ними прожили свой век.
Но, слава Б-гу, есть у нас Израиль,
Где так же вольно дышит человек!
Приятель
Приятель Фима никогда не врет,
И за нос никогда меня не водит:
Пообещал прийти – всегда придет!
Не обещал, а все равно приходит!
Из книги ,,Еврейское счастье”, Днепропетровск, 1994
Комментарий: Многие сатирические произведения поэта решительно отвергались редакциями. Внешность его тоже не всегда благоприятно воспринималась редакторами-юдофобами. “Стихи ваши хороши, но нам не подходят”… По этому поводу поэт с печальной иронией писал: “С годами я мучительно старею, хирею, пропадаю ни за грош. Я стал похож на старого еврея, а был на молодого я похож”. Но почему исконная русская фамилия Орлов? Псевдоним? Нет, фамилия подлинная. Ее поэт унаследовал от отца, а тот – от своего деда-кантониста, получившего за солдатское усердие участок земли в Крыму и в придачу – громкозвучную фамилию своего полкового командира.
******
В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит,
Перед лампадою старик
Читает библию. Седые
На книгу падают власы.
Над колыбелию пустой
Еврейка плачет молодая.
Сидит в другом углу, главой
Поникнув, молодой еврей,
Глубоко в думу погруженный.
В печальной хижине старушка
Готовит позднюю трапезу.
Старик, закрыв святую книгу,
Застежки медные сомкнул.
Старуха ставит бедный ужин
На стол и всю семью зовет.
Никто нейдет, забыв о пище.
Текут в безмолвии часы.
Уснуло всё под сенью ночи.
Еврейской хижины одной
Не посетил отрадный сон.
На колокольне городской
Бьет полночь.- Вдруг рукой тяжелой
Стучатся к ним. Семья вздрогнула,
Младой еврей встает и дверь
С недоуменьем отворяет –
И входит незнакомый странник.
В его руке дорожный посох. (1826)
*****
Христос воскрес, моя Ребекка!
Сегодня следуя душой
Закону Бoга-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я, не робея
Готов, еврейка, заплатить –
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить. (1821)
Комментарий: В 1821 поэт написал свою знаменитую «Гаврилиаду» – пародию на евангельский рассказ о непорочном зачатии, которая начинается так: воистину еврейки молодой/ мне дорого душевное спасенье. Видимо, в поэме, которая при жизни поэта не была опубликована, Пушкин лишь смакует подробности любовных утех с еврейской женщиной, возможно, с той же Ревеккой. Известна фраза «Ко мне постучался презренный еврей» из стихотворения «Чёрная шаль», и неприятное для евреев замечание в “песнях западных славян” о том, что «…в мерзостной игре жида с лягушкою венчают». Один из Пушкинских набросков начинается с того, что «теснится средь толпы еврей сребролюбивый» . В маленькой трагедии «Скупой рыцарь» выведен отвратительный еврей-жид, который отказывается ссудить деньгами молодого рыцаря Альбера, много задолжавшего ему. Альбера после смерти отца будет ждать богатое наследство, и жид предлагает ему отравить отца, для чего обещает достать яду. Благородный рыцарь отвергает с гневом это предложение. Таким образом, противопоставляются благородный, хоть и беспутный рыцарь-христианин, и готовый на любую низость еврей-ростовщик. Весьма интересна эпиграмма на Фёдора Булгарина: Не то беда, что ты поляк:/ Костюшко лях, Мицкевич лях!/ Пожалуй, будь себе татарин, -/ И тут не вижу я стыда; / Будь жид – и это не беда:/ Беда, что ты Видок Фиглярин. Здесь недвусмысленно проставлен «табель о рангах»: поляк, потом татарин, а уже потом – еврей. Татарин, конечно, плохо – вряд ли Пушкин не знал пословицу: незваный гость хуже татарина, но еврей- это уже на самом низу. Величайший русский поэт, стоит почитать хотя бы его переписку, не всегда «милость к падшим призывал», а в отношении к евреям не поднимался над толпой (Эллан Пасика. Ист. -http://www.bestreferat.ru/referat-4054.html). Вспомним, как рассказывает Пушкин о гусарским досуге. Ротмистр гусарского полка Зурин берется обучить молодого Гринева игре на бильярде. “Это, – говорит он, – необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко – чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов”. Замечание, сделанное с такой непринужденностью и наивной уверенностью, по-видимому, не должно вызывать возражений у собеседника.
Известно, что сам Пушкин в молодости учил иврит, и в его записной книжке несколько страниц испещрены буквами ивритского алфавита. Фольклорист и археограф Петр Васильевич Киреевский в письме поэту Николаю Языкову замечал: «Пушкин учится по-еврейски с намерением переводить Иова». С Иовом не сложилось, однако в 1826 году Пушкин написал стихотворение «Пророк», основанное на библейской книге Исайи. Год спустя, на вечере у Ксенофонта Полевого, Александр Сергеевич поделился своим замыслом на тему «Вечного жида»: о том, как последний посетил еврейское жилище, в котором умерло дитя, рассказал, что видел Иисуса, несущего крест, и издевался над ним. Так появилось стихотворение «В еврейской хижине лампада». При жизни Пушкина оно не печаталось – как и незавершенная поэма «Юдифь». Любопытно, но даже в «Гаврилиаде» встречаются строки: «В глуши, в дали Ерусалима…» Впрочем, зачем далеко ходить, если сама муза поэта была одета в израильское платье?
Вот муза, резвая болтунья, Которую ты столь любил. Раскаялась моя шалунья, Придворный тон ее пленил; Ее всевышний осенил Своей небесной благодатью – Она духовному занятью Опасной жертвует игрой. Не удивляйся, милый мой, Ее израильскому платью, – Прости ей прежние грехи И под заветною печатью Прими опасные стихи.
В общем, великий поэт проявлял к Земле Обетованной живой интерес – и мечтал посетить святые места. В чем признавался, к примеру, декабристу Александру Муравьеву, побывавшему в 1830 году в Палестине и опубликовавшему по возвращении свое «Путешествие по Святым местам». Этот труд он подарил Пушкину, который в ответном письме заметил, что «с умилением и невольной завистью прочел эту книгу».

Еврейский портной
Тихо, как в раю…
Звезды над местечком высоки и ярки.
Я себе пою, а я себе крою.
Опустилась, ночь.
Отдохните, дети,
День был очень жарким.
За стежком стежок,
Грошик стал тяжел, ой, вэй!
Было время, были силы,
Да уже не то.
Годы волосы скосили,
Вытерли мое пальто.
Жил один еврей, так он сказал,
Что все проходит.
Солнце тоже, вэй,
Садится на закате дня.
Но оно еще родится,
Жаль, что не в пример меня…
Кто же будет одевать их всех
Потом по моде?..
Девочка моя,
Завтра утром ты
Опять ко мне вернешься,
Милая моя, фэйгелэ моя,
Грустноглазая,
Папа в ушко майсу скажет, засмеешься.
Люди разные, и песни разные… Ой, вэй!
Будет день, и будет пища,
Жить не торопись.
Иногда богаче нищий,
Тот, кто не успел скопить.
Тот, кого уже никто нигде
Ничем не держит.
Нитки, бархат да иголки –
Вот и все дела.
Да еще талмуд на полке, –
Так бы жизнь шла да шла…
Только солнце вижу я все реже, реже…
Было время, были силы,
Да уже не то.
Годы волосы скосили,
Вытерли мое пальто.
Жил один еврей, так он сказал,
Что все проходит.
Тихо, как в раю…
Звезды над местечком высоки и ярки,
Я себе пою, а я себе крою…
Я себе пою…
P.S. Послушайте эту песню в исполнении автора
*****
Бабий Яр
Слился с небом косогор,
И задумчивы каштаны
Изумрудная растет трава
Да зеленый тот ковер
Нынче кажется багряным,
И к нему клонится голова
Молча здесь стоят люди,
Слышно, как шуршат платья
Это Бабий Яр судеб
Это кровь моих братьев
Это Бабий Яр судеб
Это кровь моих братьев
До земли недалеко,
И рукой подать до неба
В небо взмыл я и на землю сполз
Вы простите, сестры, то,
Что я с вами рядом не был,
Что в рыдания свой крик не вплел
Воздух напоен болью,
Солнце шириной в месяц
Это Бабий Яр доли,
Это стон моих песен
Ветры свежие летят
С запоздалым покаяньем,
Не услышать мертвым истины
И поэтому стоят
Люди в скорби и молчаньи
Под каштановыми листьями
Боже, ну куда деться!
Суд мой самому страшен
Это Бабий Яр детства
Это плач сердец наших
P.S. Послушайте эту песню в исполнении автора
*****
На семи ветрах, на семи холмах,
Солнцем он палим – Иерусалим.
Масличной горой всех зовёт он в бой
Сабров и олим – Иерусалим.
Йом ве лайла, йом ве лайла
Аколь бе-седер бе Ерушалаим.
Знаешь, мама, ходим прямо
Из Яд-Вашем сквозь строй в Ерушалаим.
Пришла победа – мы ходим в хедер.
Аколь беседер бэ Ерушалаим.
На семи ветрах, на семи холмах
У Стены стою я и тфилу пою.
Далека капель, вей шма Исраэль!
Годы привели в Иерусалим.
Йом ве лайла, йом ве лайла
Еврей с судьбою каждый день играет.
Йом ве лайла, йом ве лайла
Всех нас зовёт к себе Ерушалаим.
Гнула спину мать за сына,
Своих детей теряла Палестина,
Горело небо, сжигали Ребе,
Но помнит мир Синай и гнев Энтеббе.
На семи ветрах, на семи холмах
Я нашёл себя и потерял тебя.
Только одна цель – Эрец-Исраэль,
Только один гимн – Иерусалим.
Йом ве лайла, йом ве лайла
Мы говорим: Шалом Ерушалаим!
Йом ве лайла, йом ве лайла
Для всех для нас, Господь, храни Израиль!
Нам светила сквозь обиды
Шестиконечная звезда Давида.
И нету края, где нас не знают.
Аколь беседер бэ Ерушалаим. (1994)
P.S. Послушайте и посмотрите. Песня А. Розенбаума ”Шабес – гой”.
О, народ древний,
Богом ты избран, чтобы пить слезы!
Так сними обувь и станцуй танец на шипах розы.
Жизнь твоя – сказка,
Сыновья – мудры,
Жены все прелесть,
На шипах розы,
На шипах гетто,
Ты станцуй фрелес.
О, народ древний,
Смех твоей грусти – как пожар моря,
Так возьми скрипку
И сыграй радость
На струне горя,
Повенчай в песне стрекозу с тигром,
А орла – с рыбкой;
Пусть снега плачут и дожди пляшут
Под твою скрипку.
О, народ древний,
Как раввин Тору, ты листал страны,
Разверни небо,
Посчитай звезды, как свои раны.
Ты палим солнцем,
Ты гоним ветром,
Ты мечом мечен,
Но враги смертны,
Палачи тленны, а народ вечен! (2000)
Припев:
Так живи, надейся и почаще
смейся над судьбой!
Ветром ураганным смейся
над врагами, над собой!
Смейся на здоровье,
смейся на здоровье громче всех!
Освящён любовью и оплачен
кровью этот смех!
P.S. Послушайте эту песню в исполнении Тамары Гвердцители
ИЕРУСАЛИМ
Посвящается Марку Минкову
Знает только Б-г
Грусть детей твоих,
И в краю любом
Можно встретить их,
Но в любом краю
Ночью снишься им,
Словно сад в раю,
Ты, Ерусалим.
Ерусалим стоит на холмах,
Ерусалим парит в облаках,
Как мираж на небосводе,
Ты прекрасен, град Г-споден,
Ерусалим, ты сад в небесах.
Знаю, рано или поздно
Мы приходим в этот сад,
Где в библейском небе звезды
Словно слезы на глазах,
Мы приходим ниоткуда
И уходим в никуда,
Ты же вечен, словно чудо,
Как восточная звезда.
Ерусалим стоит на холмах,
Ерусалим парит в облаках,
Как мираж на небосводе,
Ты прекрасен, град Господен,
Ерусалим, ты сад в небесах.
Жизнь грустна и быстротечна,
И, закончив жизни век,
Мы уйдем дорогой Млечной,
Растворимся в синеве,
Мы, узнав любовь и горе,
Превратимся в пыль и прах,
Ты же вечно будешь, город,
В снах, молитвах и мечтах. (1986)
ИСХОД
Потерян глагол,
И не найден эпитет.
Кровь стала водою,
И камнем стал хлеб.
Ты звал, Моисей,
Нас покинуть Египет.
Мы молча пошли
За тобою вослед.
Зачем ты позвал нас, косматых, кудлатых,
Бездомных избранников Б-га-Отца?
Забыты обеты, просрочены даты,
И знойной дороге не видно конца.
Ты кормишь нас, кормчий, небесною манной,
Иллюзией счастья еврейского и
Ведешь нас пустынею самообмана
В кошмарные сны Сальвадора Дали,
В распятия Рима, в объятия гетто,
В застенки гестапо, в дневник Анны Франк,
Неужто, безумец, ты веришь, что это —
И есть наш еврейский потерянный рай?
И звезды не гаснут.
И солнце не стынет.
И мы, как секунды в песочных часах, бредем за тобой, Моисей, по пустыне
С надеждою в сердце, с тоскою в глазах
В ту землю, которую ты не увидишь,
Где, как в крематории, время горит.
Дорога длинна от иврита до идиш,
Но вдвое короче из идиш — в иврит.